Во второй половине ХХ века инвестиции на рынках некоторых развивающихся регионов приносили до 700% годовых. Можно ли повторить это сейчас: найти регион с высокими перспективами роста, который в долгосрочный перспективе не поджидают дефолт, коллапс на бирже и серьезные экономические трудности? О том, что важно помнить глобальному инвестору, который хочет испытать удачу на развивающихся рынках, читайте во второй статье цикла «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах», который для The Bell подготовила партнер Movchan’s Group, доцент Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Чиркова.
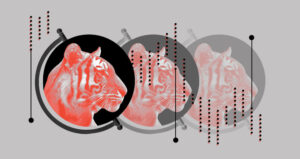
В первой статье я объяснила, почему вложения в развитый фондовый рынок, а именно рынок США, скорее всего, могут обеспечить доходность, которая будет на 4% выше доходности государственных облигаций. В долгосрочной перспективе это 6–7%. Может быть, выход в том, чтобы пойти на развивающиеся рынки — и там заработать больше? Тем более есть очень успешные примеры.
Самое известное имя — это, пожалуй, Джон Темплтон, «Христофор Колумб инвестирования», который в конце 1960-х годов первым из американских инвесторов начал вкладываться в акции японских компаний, когда совокупная капитализация фондового рынка Японии равнялась капитализации IBM. Разглядел в Японии будущее экономическое возрождение (подробнее о Темплтоне — в моей следующей колонке).
Темплтон был один такой — опередивший свое время. Другие инвесторы в 1960-е в Японию не шли. Во-первых, зарубежное инвестирование было среди американских инвесторов в принципе не в моде. К тому же Япония воспринималась как страна с крохотной экономикой, которая ни на что не способна: проиграла Вторую мировую войну, на экспорт производит на своих устаревших фабриках с дешевой рабочей силой только товары с низкой добавленной стоимостью (в основном — текстиль) или низкокачественные товары, да вывозит сельскохозяйственную продукцию. Инвесторов смущали также высокая волатильность японского рынка и трудности с поиском информации.
Между тем такое восприятие Японии не соответствовало действительности. Еще до войны у страны были амбиции стать мировой промышленной державой. А ее военная техника, использовавшаяся во Вторую мировую, по техническим характеристикам (например, дальность полетов и скорость для истребителей) превосходила американскую. Японцы проиграли борьбу в Тихом океане в основном из-за стратегических ошибок. Почитайте книгу Бартона Биггса Wealth, War and Wisdom, там об этом хорошо рассказано. Если в 1955 году в японском экспорте текстиль составлял 37,2%, а машины и оборудование — 13,7%, то в 1968-м — 15,2% и 43,6% соответственно. Все 1960-е темпы роста ВВП были двузначными.
Темплтон начал инвестировать в Японию еще в 1950-е, но тогда это были его личные деньги. Деньги инвесторов фонда он не вкладывал, потому что в Японии действовал запрет на вывоз капитала. В 1960-е эти ограничения были сняты, и Темплтон стал покупать акции для фонда. Они были крайне дешевы — показатель P/E фондового рынка в целом составлял около 4, тогда как американского при более низких темпах роста — 19,5. Темплтон вложился в бумаги Hitachi, Nissan Motors, Matsushita Electric, Nippon Televison, Sumitomo Trust and Banking и других компаний.
Стратегию Японии, заключавшуюся в ориентации на экспорт при его поддержке за счет заниженного курса валюты, сначала повторили «азиатские тигры»: Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, а затем Китай. Инвестор, правильно идентифицировавший страны с взрывным будущим экономическим ростом и низкой стоимостью акций, мог на этом заработать. В корейских бумагах, например, было выгодно сидеть c конца 1990-х до начала 2000-х годов. Темплтон это и делал. С 1954 по 1992 год, когда управляющая компания была продана, инвесторы фонда Темплтона заработали в среднем 15% годовых.
Когда мы видим такую доходность, всегда возникает вопрос: а можно ли это повторить? Для этого нужно угадать, какая страна будет следующей. Известный управляющий активами Марк Фабер в вышедшей в 2002 году книге Tomorrow’s Gold предсказывал, например, что следующим «тигром» станет Кампучия. Темпы экономического роста в стране потрясающие: за период с 1994 по 2018 год в среднем 7,1%. Но фондовый рынок остается неразвитым: фондовая биржа была основана только в 2011 году, и на сегодня на ней котируется всего пять компаний.
Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер в свой книге «Иррациональная эйфория» сделал задним числом прекрасную подборку самых больших скачков фондового рынка в 1970–1990-е годы. Если говорить о пятилетних периодах, то на первом месте идут Филиппины, где рост фондового рынка в период с ноября 1984-го по ноябрь 1989 года составил 1253%, на втором — Перу, где с сентября 1991-го по сентябрь 1996-го он достиг 743%, на третье место вышла Чили, где с марта 1985-го по март 1990 года рынок вырос на 690%. В 15 лучших по этому показателю рынков попали также (в порядке убывания доходности) Ямайка, Корея, Мексика, Тайвань, Таиланд, Колумбия, Испания, Индия, Финляндия (два раза за разные периоды), Австрия и Португалия (в последней рост ее рынка составил «всего» 291%).
Удачные периоды начинались где когда: в зависимости от страны в 1980-м, 1982-м, 1984-м, 1985-м, 1986-м, 1987-м, 1989-м, 1991-м и 1993 годах. Иными словами, Шиллер показал, что выбор этих стран и периодов очень похож на случайный. Его наблюдение состоит и в том, что за пятилетними периодами бурного роста с большой вероятностью последует и резкое падение: оно имело место в девяти случаях из 15. Наименьшим падение было в Тайване: 13%. Тогда как в Финляндии оно достигло 56%, а в Португалии — 65%. Такие коррекции, скорее всего, свидетельствуют о схлопывании пузыря. И это лишнее подтверждение тому, что, чтобы заработать, нужно было угадать, где возникнет пузырь, а это почти невозможно. Почти невозможно и выйти из него вовремя, так как начало коррекции тоже трудно предсказать.
Согласно исследованию Уильяма Гоцмана и Филиппа Джориона «Глобальные фондовые рынки в XX веке», с 1921 по 1996 год средняя (медианная) реальная доходность страновых фондовых рынков, за исключением США, составляет всего 0,8% и статистически неотличима от нуля. Согласно еще одному исследованию Гоцмана и Джориона, с 1929 года из 29 рынков, существовавших в то время, только на семи не прекращались торги. Семь рынков закрывались на срок от полугода до года, 15 не функционировали в течение длительного времени либо вообще умерли.
Среди усопших — рынки стран Восточной Европы. Испанский был закрыт из-за гражданской войны с 1936 по 1940 год, его результат в 1921–1996 годах — минус 1,82% годовых в реальном выражении. Рынки Гонконга, где биржевая торговля акциями возникла еще в 1890-м, и Сингапура, где биржу основали 20 лет спустя, закрывались из-за японской оккупации. Китайский рынок войну пережил, но исчез в 1949-м.
Аргентинский — один из старейших: первая в Латинской Америке фондовая биржа была основана в Буэнос-Айресе в 1895 году — был закрыт в 1965-м на 10 лет. В результате беспорядков и гиперинфляции инвесторы потеряли интерес к акциям. 27-процентный годовой рост в долларовом выражении в 1975–1996 годах не компенсирует полного обесценивания акций с 1944 по 1965 год. Рынок Египта, где торговля началась в 1890 году, Вторую мировую пережил, а огосударствление экономики при Насере — нет. Был закрыт в 1962 году, когда каирская биржа была четвертой в мире по обороту, и открылся вновь лишь в 1992-м. Чилийские акции за год, предшествовавший апрельским событиям 1971 года, когда к власти пришел Сальвадор Альенде, потеряли 55%. Рынок правильно предсказал, что с ним сделает социалистическое правительство: он был ликвидирован. Биржа была заново открыта весной 1974 года Аугусто Пиночетом. С 1927 по 1996 год этот рынок принес инвесторам 3% в реальном выражении в год — лучший результат в Латинской Америке.
Бейрутская биржа, созданная еще в 1920 году, закрылась в 1983-м из-за гражданской войны в Ливане на 11 лет. Кувейтский рынок, организованный в 1950-е и бурно росший в конце 1970-х — начале 1980-х из-за высоких цен на нефть, не функционировал три года из-за войны в Персидском заливе 1990 года и захвата Кувейта Ираком. Перуанская биржа закрывалась на длительные сроки в 1952–1957 и в 1988–1996 годах. В 1985 году к власти пришел радикал Алан Гарсия Перес, за время его шестилетнего президентского срока ВВП упал на 20%. В 1988 году началась гиперинфляция, за три года рост цен превысил 2 млн процентов. В результате индекс перуанских акций с 1941 по 1996 год в среднем терял в год 4,85% в реальном выражении.
Колумбия, Уругвай, Венесуэла, Мексика, Малайзия, Индия имели развитые фондовые рынки в 1920-х, но они до сих пор числятся среди развивающихся. Со второй половины 1930-х по 1996 год рынки Венесуэлы, Колумбии, Индии, функционировавшие все время, так и не вышли в плюс.
Ну а все же, если инвестор хочет попытать счастья, то какой рынок выбрать? Что советуют стоимостные инвесторы на эту тему? Дельный совет можно найти у самого Темплтона. Главным при инвестировании в развивающиеся рынки он считает риск девальвации, а поэтому советует инвестировать в экономики с самыми стабильными валютами. Перспективы стабильности валюты, согласно Темплтону, можно определить по уровню заимствований и норме сбережений. Лучше всего входить в страны с небольшим внешним долгом и высокой нормой сбережений.
Другой известный стоимостной инвестор Дэвид Дреман, который, кстати, утверждает, что инвестирование в развивающиеся рынки не дает большей доходности по сравнению с развитыми, видит основной инвестиционный риск в обесценивании инвестиций из-за инфляции. Соответственно, лучше выбирать экономики с низкой инфляцией. Такой подход соответствует тому, что говорит Темплтон, ведь высокая инфляция и является основной причиной девальвации валюты.
Я тоже позволю себе дать совет глобальному инвестору. По показателю P/E многие рынки, и особенно российский, могут казаться вам дешевыми. Кажутся они дешевыми и в том случае, если в оценке справедливого уровня P/E конкретной страны учесть все классические показатели, влияющие на него, а именно долю дивидендов в прибыли у компаний, входящих в биржевой индекс, спред доходности между государственными облигациями США и облигациями данной страны, номинированными в долларах, относительную волатильность данного фондового рынка по сравнению с рынком США, средний размер компаний на исследуемом рынке и относительную ликвидность данного фондового рынка по сравнению с рынком США. Связано это с тем, что классические модели оценки справедливости уровня рынка не учитывают такие факторы, как степень защиты инвесторов и уровень коррупции. Например, в случае России, если мы учтем ее место в рейтинге восприятия коррупции Transparancy International или ее рейтинг защиты прав собственности — компонент индекса экономической свободы Всемирного банка, окажется, что наши акции оценены вполне себе адекватно по сравнению с мировыми средними. У страны, у которой нет шансов стать следующей Японией в глобальном разделении труда и довести защиту акционеров до мировых лучших практик, мало шансов и получить достойную оценку со стороны мирового финансового сообщества акций ее публичных компаний.
Учтите еще, что Темплтон бывал в Японии в 1950-е и своими глазами наблюдал трансформацию страны. Это тоже немаловажный момент. Если вы знаете развивающуюся страну и ее бизнес по публикациям в интернете, риски вложений в нее вы можете недооценить. Вовремя сделать ставку на следующего мирового «тигра» — только начало. Важно еще вовремя закрыть позицию. Второе не менее важно, чем первое. Доходность Темплтона хороша еще и потому, что он не только вовремя вошел в японский рынок, но и вовремя, в 1980-е, вышел. Ровно тогда, когда инвесторы наводнили страну и рынок стал сильно переоценным, Темплтон переложился в американские акции. Если вы не уверены в своей способности грамотно определить страну, точку входа и точку выхода из нее, лучше оставить капитал работать на развитом рынке.
Сухой остаток: инвестиции в акции на развивающихся рынках не дают большей доходности, нежели на развитых. Угадать отдельные резкие всплески крайне сложно — так же как и неизбежные после них коррекции. Риски инвестирования вплоть до закрытия биржи высоки, а цены акций с учетом этих рисков не так уж и дешевы. Сомнительно, что игра стоит свеч. На мой взгляд, разумнее постараться увеличить доходность вложений на развитых рынках — за счет грамотного подхода, реализованного выдающимися стоимостными инвесторами. Насколько он реплицируем — тема для отдельного разговора. Начну с того, что в следующей колонке их просто представлю.
Все материалы цикла «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах»:
- Доходность акций: какой она была в прошлом и чего ждать в будущем
- Ставка на тигра: как инвестировать на развивающихся рынках
- Уоррен Баффет и другие: 11 выдающихся стоимостных инвесторов
- Можно ли угадать идеальное время для покупки акций
- Диверсификация инвестиционного портфеля: всех ли рисков можно избежать?
- Что такое «дорого» и «дешево» на фондовом рынке
- Какие показатели использовать для оценки акций
- Жить на дивиденды: как компании платят акционерам
- Что такое качественные акции: критерии выдающихся стоимостных инвесторов
- Может ли рядовой инвестор повторить успех легенд фондового рынка
- Стоимостное инвестирование на перегретом рынке: спасение в коротких позициях?